Вы здесь
Меню
- О партии
- К 100-летию Великого Октября
- XV съезд КПРФ
- XVI Съезд КПРФ
- XVII Cъезд КПРФ
- XVIII Cъезд КПРФ
- Выборы президента РФ 2018
- Акции протеста
- Структура руководящих органов Карачаево-Черкесского рескома КПРФ
- Городские и районные отделения КПРФ
- Информационный отдел
- Отдел организационно-партийной и кадровой работы
- Депутатская деятельность
- Партийная печать
- Комсомол
- Пионерия
- Персональные страницы
- Юридическая помощь
- Агитатору и пропагандисту
- Фотогалерея
- Читай Ленина и Сталина
- Спортклуб КПРФ
Новые комментарии
- Гордимся тобой Руслан! Ждем с 3 дня 21 час назад
- власти уже давно поделили 1 неделя 15 часов назад
- Нашим властям нужно закрыть 2 недели 1 день назад
- Двуличие власти - визитная 2 недели 2 дня назад
- Ленин 3 недели 1 день назад
- В порядочное время этих 3 недели 3 дня назад
- нужна проверенная информация 3 недели 3 дня назад
- Ленин создал Красную Армию. 3 недели 3 дня назад
- Нельзя прятать историю страны 3 недели 3 дня назад
- Виноват тем что никак 3 недели 4 дня назад
Опрос
Сейчас на сайте
1 пользователь онлайн.
- redaktor
Поделиться ссылкой
Ежемесячный архив
- июня 2024 (49)
- мая 2024 (263)
- апреля 2024 (248)
- марта 2024 (229)
- февраля 2024 (251)
- января 2024 (209)
- декабря 2023 (212)
- ноября 2023 (218)
- октября 2023 (243)
- сентября 2023 (229)
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Сайты региональных отделений партии ЮФО и СКФО
- Краснодарское отделение КПРФ
- Северо-Осетинский реском КПРФ
- Ростовский областной комитет КПРФ
- Официальный сайт коммунистов Астраханской области
- Дагестанское республиканское отделение КПРФ
- Ставропольское краевое отделение КПРФ
- Адыгейское республиканское отделение КПРФ
- Волгоградское областное отделение КПРФ
- Чеченское республиканское отделение КПРФ
- Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ
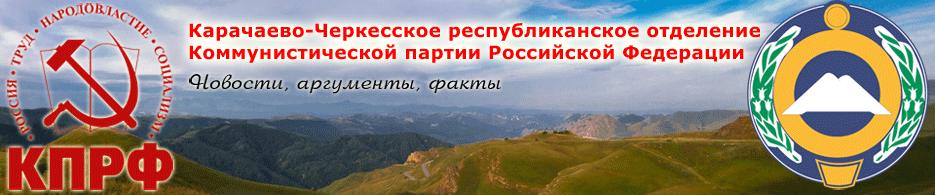

итоги выборов в Приморье: аспект всероссийского значения
До Москвы – от самых от окраин…
Отмена результатов выборов губернатора в Приморье имеет далеко идущие последствия
Решение отменить результаты голосования за претендентов на должность главы региона в Приморском крае состоялось: краевая избирательная комиссия, решив не дожидаться выводов приехавших из Центризбиркома проверяющих, выдала такой вердикт. Хорошо ли это, плохо ли – факт свершился, и настаёт время анализировать не только то, кто и как действовал, что именно предопределило такой исход. Стоит задуматься и над тем, какое значение имеет сложившаяся ситуация для общественно-политической жизни России в целом, а не только отдельно взятого Приморского края.
Для начала попытаемся понять, кто же такой губернатор (вне зависимости от его фамилии, партийной принадлежности и иных, как говорят правоохранители, «установочных» данных). С одной стороны, это глава исполнительной власти в регионе и является лицом, ответственным перед населением за тот порядок, который на территории имеет место быть. Причём ответственность эта проистекает в основном из того, что население (по крайней мере, в настоящее время, хотя так было не всегда даже на современном нам этапе) главу региона избирает. Если посмотреть на фигуру губернатора с другой стороны, то стоит вспомнить, что именно с уровня субъекта РФ власть именуется и является государственной. Т.е. получается, что руководитель региона так или иначе является лицом, не только предлагаемым со стороны «федерального центра», но и в значительной степени зависимым от этого «центра», а не только данному «центру» подконтрольным. Такой аспект вполне понятен даже по тому, что на время (пусть даже краткого по продолжительности) «безвластия» исполняющего обязанности губернатора определяет и направляет именно всё тот же «федеральный центр».
Такое двойственное положение накладывает определённый (если не сказать «существенный») отпечаток и на характер выборов губернаторов. Этот момент в значительной мере предопределил остроту противоборства, сложившегося в процессе подготовки, а особенно – проведения нынешней избирательной кампании.
Дело не в том, плох или хорош как руководитель края Андрей Тарасенко. Вопрос в другом: в том, что он воспринимается населением Приморья как «варяг», как «пришлый» (вернее, «присланный Москвой»). Да ещё и поддержанный пресловутой «партией власти», доверие к которой в значительной мере оказалось к сегодняшнему дню подорвано (или, хотя бы, поколеблено) правительственной инициативой о так называемой «пенсионной реформе». Оппонент по выборной гонке – Андрей Ищенко, – напротив ассоциируется с «оппозиционной» партией (хотя «оппозиционность» сегодняшней КПРФ зачастую вызывает кривую усмешку), выступившей категорически против такой инициативы.
То, что непосредственно в день (если быть хронологически точным, то, скорее, в ночь и под утро следующих суток) второго тура голосования произошла чехарда, которую (как можно понять, не без оснований) наблюдатели связали с возможными подтасовками, вбросами бюллетеней, исправлениями в протоколах и т.п., – всё это не видится таким уж удивительным.
При двояком статусе сегодняшнего губернатора региона (используя старинные аналоги, можно сказать, что он, с одной стороны, «удельный князь», а с другой, – «государев наместник») вполне становится понятным и объяснимым явлением тот неподдельный интерес к его фигуре со стороны именно федеральных властей. И не просто интерес, а попытки всеми правдами и неправдами (чего больше – думайте сами) сделать из главы территории своего «в доску» человека. Когда краем, областью, республикой и т.п. управляет назначенец, тогда вопрос о том, насколько он «свой» для Кремля, не возникает в принципе: как назначили – так же легко и непринуждённо возможно и снять, заменив на более лояльного, если не сказать «послушного», исполнителя «верховной воли». Но если в стране утвердилась практика избрания глав регионов, то «федеральному центру» приходится считаться с тем, что эти главы должны нести какую-то ответственность и перед избирателями, а не только перед ним.
Щекотливость выборов состоит в том, что интересы двух этих сил – «федерального центра» и избирателей в регионе – нередко если не противоположны, то, хотя бы, существенно отличаются. Если даже пресловутый «центр» вкладывает средства (свои или привлечённые – это уже второй вопрос) в дороги, мосты, стадионы и т.д. и т.п., даже создаёт специализированные министерства по управлению макрорегионами (таковые существуют в РФ по Дальнему Востоку и по Северному Кавказу), но существенно все эти, достаточно внешние, перемены не сказываются положительно на качестве жизни населения, – стоит ли удивляться тому, что избирателям (им-то тут жить – в отличие от одного из экс-губернаторов Приморья, чьи листовки с весьма характерным слоганом оказались расклеенными даже на заборе небезызвестного в Приморье заведения по адресу на Партизанском проспекте Владивостока!) при выборе между «наместником государя» и «удельным князем» приходится выбирать, и предпочтительней может на выборах оказаться именно фигура «князя». Ведь он, как правило, – не заезжий, пусть даже на несколько лет, гастролёр; он здесь вырос, знает и умеет (в большей или меньшей степени – не о том сейчас речь) решать здешние же проблемы, по крайней мере, видит возможные пути их решения тут, на месте, а не с московской колокольни Ивана Великого. И тут начинается самое интересное.
Оно заключается в том, что «федеральный центр» хочет иметь во главе региона такого руководителя, который бы отвечал его, «центра», интересам – мог бы способствовать, чтобы налоги (хотя бы – основная их часть) поступали именно в федеральный бюджет, чтобы здесь, в регионе, могли бы создаваться те или иные структуры, проводящие линию «центра». Чтобы добычей природных ресурсов занимались компании, функционирующие, как минимум, под «патронажем» подконтрольных «центру» компаний. А сбыт продукции в регионе осуществляли опять-таки те, кто входит в орбиту интересов всё того же «центра». Что касается местных производителей или ретейлеров – в отношении них действует правило: «не можешь подчинить – дави».
Вполне объяснимо и то, что не только население как таковое, но и бизнес в регионах подобный подход едва ли может устроить. А если всё происходит на тех территориях, где природно-климатические условия весьма разительно отличаются от достаточно благоприятных, которые присущи значительной части Европейской России, – тут возникают, можно сказать, особые отношения. Для Дальнего Востока, к примеру, «традиционной» (и время от времени поднимаемой, причём – по инициативе «Москвы») является проблема «правого руля»: то у федеральных чиновников возникают «остроумные» предложения о переделке конструкций иномарок, то о запрете или увеличении таможенных пошлин, то ещё какие мысли по поводу. Около десятка лет назад дошло даже до того, что приморцев, недовольных очередной новацией «федералов», пришлось усмирять с помощью специально присланного во Владивосток из Подмосковья ОМОНа.
Впрочем, как показывает практика, разного рода pr-технологии, как и манипуляции на выборах (раз от раза они становятся, конечно, «совершеннее» и дошли в последний по времени раз до такого абсурда, как проведение неких «учений пожарных» в помещениях, где размещались избирательные комиссии), уже не имеют того эффекта, на который по старинке надеются в Москве. «Нашенский» Владивосток, Приморье, да и другие (наверное, так) регионы, особенно – почитаемые «федеральным центром» за «далёкие окраины», уже не хотят изображать из себя «хор мальчиков-зайчиков». А хотят жить достойно и – по-своему.
Что тут скажешь? О «параде суверенитетов» сейчас уже мало кто вспоминает, а если и говорит, то как о чём-то уже пережитом и почти забытом. Впрочем, не все предали забвению мечту о том, чтобы сбросить с себя ярмо, каковым воспринимают (наверное, не без оснований) всё тот же «федеральный центр». Конечно, далеко не всякий регион (а вернее – практически никто) не может похвалиться такой «самостоятельностью», какой достигла при нынешнем главе республики Рамзане Кадырове Чечня. То, что на её нужды из федерального бюджета выделяются не просто «не маленькие», а колоссальные средства, – известно, пожалуй, сегодня всем и каждому. Но не «все и каждый» задумываются, почему на территории этой республики федеральное законодательство применяется, скажем так, очень своеобразно; почему даже для действий федеральных министерств и ведомств силового блока в Чеченской Республике требуется практически согласие на проведение тех или иных спецмероприятий со стороны главы этого субъекта РФ и др. Или, может, эта республика получила какой-то особый статус, который (возможно, пока) не прописан в Конституции РФ?
В связи с этим обстоятельством хочется обратить внимание и на то, что Дальний Восток (включая, понятное дело, Приморский край) стал средоточием так называемых ТОРов (хотя, помимо Приморья и других регионов этого макрорегиона, «территории опережающего развития» формируются и в других частях России). Если говорить о правовом режиме этих территорий, то нужно иметь в виду следующее. Применение общефедерального законодательства на них крайне своеобразно. И отчасти напоминает знаменитую фразу из миниатюры в исполнении Владимира Винокура: «Тут – играем, тут – не играем, а тут рыбу заворачивали». Проще сказать, не только местному самоуправлению на уровне муниципалитетов, но и властям региона приходится лавировать, чтобы и не прослыть нарушителями законодательства, и соблюсти интересы «резидентов ТОРов», «свободного порта» и т.п. Этот аспект тоже приходится учитывать, когда проводится анализ деятельности губернаторов регионов.
Возвращаясь мысленно к сравнению таких должностных лиц и с наместниками правителей, и с удельными князьями былых эпох, можно заметить вертящееся в уме сопоставление возможной перспективы «рассыпания» России на отдельные микрогосударства (по аналогии с тем, как в своё время развалился СССР) с периодом так называемой «феодальной раздробленности». Не преуменьшая тех опасностей и трудностей, которые сопровождали процесс тогдашнего, почти тысячелетней давности, распада, да и угроз, которые таит сопоставимый с тем современный процесс размежевания, стоит обратить внимание и на другие аспекты данной проблемы. (Стоит сразу оговорить, что анализ ситуации не подразумевает под собой восхваление какого-либо процесса, а тем более – призыва к проведению тех или иных действий. Нередко случается, что в погоне за «процентовкой» раскрываемости тех или иных деяний правоохранители не утруждают себя увидеть подобные различия, а потому подвергают аналитиков ничем не оправданной опале).
Да, в период феодальной раздробленности связи между территориями отдельной большой (всё, понятное дело, относительно!) страны были сведены к минимуму или даже утрачены вовсе. Но это совершенно не означало, что столь же ничтожными оказывались связи и внутри каждой из таких территорий. Необходимость выживания диктовала потребность подъёма производства и внутреннего обмена. А когда масштабы последнего уже не могли отвечать потребностям рынка (как сырья, рабочей силы, так и сбыта готовой продукции), то тогда назрела потребность в поисках внешних рынков и, соответственно, сближения и даже объединения территорий. Другое дело, что новое объединение могло быть (и в значительной части было) иным, чем то, которое предшествовало разделению большой территории на несколько меньших. Вполне возможно, что мы сейчас стоим на пороге (или уже начали движение в эту сторону – пока однозначно говорить, наверное, рано) чего-то подобного.
Логичный вопрос: «А к чему этот экскурс?» – сопровождается не менее логичным ответом. Нынешняя ситуация, когда «федеральный центр», без преувеличения, высасывает из регионов практически все соки, может (логика подсказывает, что может) подтолкнуть их к «разбеганию» в разные стороны. Время от времени приходится знакомиться с разными схемами территориально-административного устройства и деления, которые могут быть актуализированными подобным воздействием «федерального центра». Кто-то спешит «отдать» Дальний Восток и Сибирь Китаю (оснований для таких прогнозов и сейчас можно найти предостаточно), другие видят раздел территорий между Японией, Китаем и другими странами, третьи, вообще, говорят о нескольких относительно независимых республиках, которые могут сформироваться на пространстве сегодняшних Дальнего Востока и Сибири. Да и, что греха таить, идею организации (или воссоздания?) Дальневосточной республики уже в постсоветский период не раз выдвигали «горячие головы» не только в Приморье… Словом, такая реакция на «поведение» «федерального центра» тоже не является снегом, выпавшим на голову. Всё вполне понятно и вполне объяснимо (хотя это и не означает автоматически, что всё изложенное не просто приемлемо, но и может быть реализовано на практике).
Риск сорвать резьбу при закручивании гаек весьма велик, особенно тогда, когда в котле, на котором эти гайки располагаются и держат крышку, закипает вода. Учитывают ли это обстоятельство те, кто «метит в губернаторы» Приморья и других регионов, а также те, кто за этими претендентами стоит, – это будет видно уже вскоре. Как говорится, нравится ли это кому-либо или нет.
До Москвы – от самых от окраин…
Отмена результатов выборов губернатора в Приморье имеет далеко идущие последствия
Решение отменить результаты голосования за претендентов на должность главы региона в Приморском крае состоялось: краевая избирательная комиссия, решив не дожидаться выводов приехавших из Центризбиркома проверяющих, выдала такой вердикт. Хорошо ли это, плохо ли – факт свершился, и настаёт время анализировать не только то, кто и как действовал, что именно предопределило такой исход. Стоит задуматься и над тем, какое значение имеет сложившаяся ситуация для общественно-политической жизни России в целом, а не только отдельно взятого Приморского края.
Для начала попытаемся понять, кто же такой губернатор (вне зависимости от его фамилии, партийной принадлежности и иных, как говорят правоохранители, «установочных» данных). С одной стороны, это глава исполнительной власти в регионе и является лицом, ответственным перед населением за тот порядок, который на территории имеет место быть. Причём ответственность эта проистекает в основном из того, что население (по крайней мере, в настоящее время, хотя так было не всегда даже на современном нам этапе) главу региона избирает. Если посмотреть на фигуру губернатора с другой стороны, то стоит вспомнить, что именно с уровня субъекта РФ власть именуется и является государственной. Т.е. получается, что руководитель региона так или иначе является лицом, не только предлагаемым со стороны «федерального центра», но и в значительной степени зависимым от этого «центра», а не только данному «центру» подконтрольным. Такой аспект вполне понятен даже по тому, что на время (пусть даже краткого по продолжительности) «безвластия» исполняющего обязанности губернатора определяет и направляет именно всё тот же «федеральный центр».
Такое двойственное положение накладывает определённый (если не сказать «существенный») отпечаток и на характер выборов губернаторов. Этот момент в значительной мере предопределил остроту противоборства, сложившегося в процессе подготовки, а особенно – проведения нынешней избирательной кампании.
Дело не в том, плох или хорош как руководитель края Андрей Тарасенко. Вопрос в другом: в том, что он воспринимается населением Приморья как «варяг», как «пришлый» (вернее, «присланный Москвой»). Да ещё и поддержанный пресловутой «партией власти», доверие к которой в значительной мере оказалось к сегодняшнему дню подорвано (или, хотя бы, поколеблено) правительственной инициативой о так называемой «пенсионной реформе». Оппонент по выборной гонке – Андрей Ищенко, – напротив ассоциируется с «оппозиционной» партией (хотя «оппозиционность» сегодняшней КПРФ зачастую вызывает кривую усмешку), выступившей категорически против такой инициативы.
То, что непосредственно в день (если быть хронологически точным, то, скорее, в ночь и под утро следующих суток) второго тура голосования произошла чехарда, которую (как можно понять, не без оснований) наблюдатели связали с возможными подтасовками, вбросами бюллетеней, исправлениями в протоколах и т.п., – всё это не видится таким уж удивительным.
При двояком статусе сегодняшнего губернатора региона (используя старинные аналоги, можно сказать, что он, с одной стороны, «удельный князь», а с другой, – «государев наместник») вполне становится понятным и объяснимым явлением тот неподдельный интерес к его фигуре со стороны именно федеральных властей. И не просто интерес, а попытки всеми правдами и неправдами (чего больше – думайте сами) сделать из главы территории своего «в доску» человека. Когда краем, областью, республикой и т.п. управляет назначенец, тогда вопрос о том, насколько он «свой» для Кремля, не возникает в принципе: как назначили – так же легко и непринуждённо возможно и снять, заменив на более лояльного, если не сказать «послушного», исполнителя «верховной воли». Но если в стране утвердилась практика избрания глав регионов, то «федеральному центру» приходится считаться с тем, что эти главы должны нести какую-то ответственность и перед избирателями, а не только перед ним.
Щекотливость выборов состоит в том, что интересы двух этих сил – «федерального центра» и избирателей в регионе – нередко если не противоположны, то, хотя бы, существенно отличаются. Если даже пресловутый «центр» вкладывает средства (свои или привлечённые – это уже второй вопрос) в дороги, мосты, стадионы и т.д. и т.п., даже создаёт специализированные министерства по управлению макрорегионами (таковые существуют в РФ по Дальнему Востоку и по Северному Кавказу), но существенно все эти, достаточно внешние, перемены не сказываются положительно на качестве жизни населения, – стоит ли удивляться тому, что избирателям (им-то тут жить – в отличие от одного из экс-губернаторов Приморья, чьи листовки с весьма характерным слоганом оказались расклеенными даже на заборе небезызвестного в Приморье заведения по адресу на Партизанском проспекте Владивостока!) при выборе между «наместником государя» и «удельным князем» приходится выбирать, и предпочтительней может на выборах оказаться именно фигура «князя». Ведь он, как правило, – не заезжий, пусть даже на несколько лет, гастролёр; он здесь вырос, знает и умеет (в большей или меньшей степени – не о том сейчас речь) решать здешние же проблемы, по крайней мере, видит возможные пути их решения тут, на месте, а не с московской колокольни Ивана Великого. И тут начинается самое интересное.
Оно заключается в том, что «федеральный центр» хочет иметь во главе региона такого руководителя, который бы отвечал его, «центра», интересам – мог бы способствовать, чтобы налоги (хотя бы – основная их часть) поступали именно в федеральный бюджет, чтобы здесь, в регионе, могли бы создаваться те или иные структуры, проводящие линию «центра». Чтобы добычей природных ресурсов занимались компании, функционирующие, как минимум, под «патронажем» подконтрольных «центру» компаний. А сбыт продукции в регионе осуществляли опять-таки те, кто входит в орбиту интересов всё того же «центра». Что касается местных производителей или ретейлеров – в отношении них действует правило: «не можешь подчинить – дави».
Вполне объяснимо и то, что не только население как таковое, но и бизнес в регионах подобный подход едва ли может устроить. А если всё происходит на тех территориях, где природно-климатические условия весьма разительно отличаются от достаточно благоприятных, которые присущи значительной части Европейской России, – тут возникают, можно сказать, особые отношения. Для Дальнего Востока, к примеру, «традиционной» (и время от времени поднимаемой, причём – по инициативе «Москвы») является проблема «правого руля»: то у федеральных чиновников возникают «остроумные» предложения о переделке конструкций иномарок, то о запрете или увеличении таможенных пошлин, то ещё какие мысли по поводу. Около десятка лет назад дошло даже до того, что приморцев, недовольных очередной новацией «федералов», пришлось усмирять с помощью специально присланного во Владивосток из Подмосковья ОМОНа.
Впрочем, как показывает практика, разного рода pr-технологии, как и манипуляции на выборах (раз от раза они становятся, конечно, «совершеннее» и дошли в последний по времени раз до такого абсурда, как проведение неких «учений пожарных» в помещениях, где размещались избирательные комиссии), уже не имеют того эффекта, на который по старинке надеются в Москве. «Нашенский» Владивосток, Приморье, да и другие (наверное, так) регионы, особенно – почитаемые «федеральным центром» за «далёкие окраины», уже не хотят изображать из себя «хор мальчиков-зайчиков». А хотят жить достойно и – по-своему.
Что тут скажешь? О «параде суверенитетов» сейчас уже мало кто вспоминает, а если и говорит, то как о чём-то уже пережитом и почти забытом. Впрочем, не все предали забвению мечту о том, чтобы сбросить с себя ярмо, каковым воспринимают (наверное, не без оснований) всё тот же «федеральный центр». Конечно, далеко не всякий регион (а вернее – практически никто) не может похвалиться такой «самостоятельностью», какой достигла при нынешнем главе республики Рамзане Кадырове Чечня. То, что на её нужды из федерального бюджета выделяются не просто «не маленькие», а колоссальные средства, – известно, пожалуй, сегодня всем и каждому. Но не «все и каждый» задумываются, почему на территории этой республики федеральное законодательство применяется, скажем так, очень своеобразно; почему даже для действий федеральных министерств и ведомств силового блока в Чеченской Республике требуется практически согласие на проведение тех или иных спецмероприятий со стороны главы этого субъекта РФ и др. Или, может, эта республика получила какой-то особый статус, который (возможно, пока) не прописан в Конституции РФ?
В связи с этим обстоятельством хочется обратить внимание и на то, что Дальний Восток (включая, понятное дело, Приморский край) стал средоточием так называемых ТОРов (хотя, помимо Приморья и других регионов этого макрорегиона, «территории опережающего развития» формируются и в других частях России). Если говорить о правовом режиме этих территорий, то нужно иметь в виду следующее. Применение общефедерального законодательства на них крайне своеобразно. И отчасти напоминает знаменитую фразу из миниатюры в исполнении Владимира Винокура: «Тут – играем, тут – не играем, а тут рыбу заворачивали». Проще сказать, не только местному самоуправлению на уровне муниципалитетов, но и властям региона приходится лавировать, чтобы и не прослыть нарушителями законодательства, и соблюсти интересы «резидентов ТОРов», «свободного порта» и т.п. Этот аспект тоже приходится учитывать, когда проводится анализ деятельности губернаторов регионов.
Возвращаясь мысленно к сравнению таких должностных лиц и с наместниками правителей, и с удельными князьями былых эпох, можно заметить вертящееся в уме сопоставление возможной перспективы «рассыпания» России на отдельные микрогосударства (по аналогии с тем, как в своё время развалился СССР) с периодом так называемой «феодальной раздробленности». Не преуменьшая тех опасностей и трудностей, которые сопровождали процесс тогдашнего, почти тысячелетней давности, распада, да и угроз, которые таит сопоставимый с тем современный процесс размежевания, стоит обратить внимание и на другие аспекты данной проблемы. (Стоит сразу оговорить, что анализ ситуации не подразумевает под собой восхваление какого-либо процесса, а тем более – призыва к проведению тех или иных действий. Нередко случается, что в погоне за «процентовкой» раскрываемости тех или иных деяний правоохранители не утруждают себя увидеть подобные различия, а потому подвергают аналитиков ничем не оправданной опале).
Да, в период феодальной раздробленности связи между территориями отдельной большой (всё, понятное дело, относительно!) страны были сведены к минимуму или даже утрачены вовсе. Но это совершенно не означало, что столь же ничтожными оказывались связи и внутри каждой из таких территорий. Необходимость выживания диктовала потребность подъёма производства и внутреннего обмена. А когда масштабы последнего уже не могли отвечать потребностям рынка (как сырья, рабочей силы, так и сбыта готовой продукции), то тогда назрела потребность в поисках внешних рынков и, соответственно, сближения и даже объединения территорий. Другое дело, что новое объединение могло быть (и в значительной части было) иным, чем то, которое предшествовало разделению большой территории на несколько меньших. Вполне возможно, что мы сейчас стоим на пороге (или уже начали движение в эту сторону – пока однозначно говорить, наверное, рано) чего-то подобного.
Логичный вопрос: «А к чему этот экскурс?» – сопровождается не менее логичным ответом. Нынешняя ситуация, когда «федеральный центр», без преувеличения, высасывает из регионов практически все соки, может (логика подсказывает, что может) подтолкнуть их к «разбеганию» в разные стороны. Время от времени приходится знакомиться с разными схемами территориально-административного устройства и деления, которые могут быть актуализированными подобным воздействием «федерального центра». Кто-то спешит «отдать» Дальний Восток и Сибирь Китаю (оснований для таких прогнозов и сейчас можно найти предостаточно), другие видят раздел территорий между Японией, Китаем и другими странами, третьи, вообще, говорят о нескольких относительно независимых республиках, которые могут сформироваться на пространстве сегодняшних Дальнего Востока и Сибири. Да и, что греха таить, идею организации (или воссоздания?) Дальневосточной республики уже в постсоветский период не раз выдвигали «горячие головы» не только в Приморье… Словом, такая реакция на «поведение» «федерального центра» тоже не является снегом, выпавшим на голову. Всё вполне понятно и вполне объяснимо (хотя это и не означает автоматически, что всё изложенное не просто приемлемо, но и может быть реализовано на практике).
Риск сорвать резьбу при закручивании гаек весьма велик, особенно тогда, когда в котле, на котором эти гайки располагаются и держат крышку, закипает вода. Учитывают ли это обстоятельство те, кто «метит в губернаторы» Приморья и других регионов, а также те, кто за этими претендентами стоит, – это будет видно уже вскоре. Как говорится, нравится ли это кому-либо или нет.