Историческая правда против бумажного реваншизма

Историческая правда против бумажного реваншизма

Победа, одержанная советским народом в Великой Отечественной войне, уже многие десятилетия не даёт покоя нашим так называемым партнёрам в странах коллективного Запада. Всё-то им «не так»: то «трупами закидали», то «победили не благодаря, а вопреки», то «если бы не ленд-лиз»… Впрочем, в исполнении западных «историков» встречаются и более экзотические интерпретации героического подвига советского народа. Если попытаться неким образом систематизировать их, то ключевой посыл сводится к следующему: никакой военной победы советского народа над германским нацизмом не было вовсе, а было лишь… счастливое для русских стечение обстоятельств!
С точки зрения проигравших, данная позиция не только психологически удобна, но и политически беспроигрышна. Под неё можно подверстать практически любые факты: акт германской агрессии против Советского Союза объяснить «превентивной необходимостью», а сокрушительное поражение германской военной машины на полях сражений в СССР и вовсе объявить тактическим успехом германских вооружённых сил, искусно жонглируя цифрами потерь, понесённых сторонами на отдельно взятом участке фронта.
Примечательно, что даже Уинстон Черчилль, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях ни к нашей стране, ни к её народу, по окончании Второй мировой войны подметил, что «немецкие генералы, проигравшие Вторую мировую войну, впоследствии взяли реванш в своих мемуарах». Одним из наиболее ярких примеров подобного «бумажного реваншизма» является интерпретация результатов Курского сражения, закончившегося для противника разгромом его танковых войск и окончательной утратой инициативы на Восточном фронте.
Напомним, что Курская битва — крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, продолжавшееся с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершившееся освобождением крупных советских городов — Орла, Белгорода и Харькова. В ней участвовали с обеих сторон порядка 3 миллионов солдат и офицеров, почти 8 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 25 тысяч орудий и миномётов и почти 4500 самолётов. В ходе этого сражения Красная Армия не только сдержала мощнейший удар немецких войск, но и перешла в контрнаступление на юго-восточном и восточном участках советско-германского фронта, окончательно завладев стратегической инициативой до конца войны.
Такова историческая истина, подтверждённая многими тысячами живых участников тех событий по обе стороны фронта, сотнями архивных документов, а также признанные не только советским, но и, что примечательно, германским высшим военным и политическим руководством (о том, как оценивал последствия своего поражения под Курском наш противник, порассуждаем чуть ниже). Но, очевидно, эта истина устраивает далеко не всех — и в первую очередь представителей германской околонаучной среды, относящих себя к историкам. Во всяком случае, только так можно трактовать их неиссякаемый энтузиазм в самоуничижительных попытках исторического ревизионизма и открытой фальсификации фактов в многочисленных публикациях и интервью. Рассмотрим наиболее колоритные примеры.
Ещё в 2018 году, к 75-й годовщине Курской битвы, немецкое издание Deutsche Welle («Немецкая волна») опубликовало статью с провокационным заголовком «Битва под Прохоровкой: кому досталась победа?». В ней были в одностороннем порядке представлены мнения только немецких историков, причём лишь тех из них, кто занимается «альтернативным» изучением Курской битвы. Так, немецкий исследователь Маттиас Уль считает, что «в битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако их командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной Армии в Курской битве это выглядело потом достаточно правдоподобно».
По данным другого историка — Карла-Хайнца Фризера: «На самом деле в этом бою принимали участие 186 немецких и 672 советских танка. Красная Армия потеряла при этом 235 танков, а немецкие войска — всего три!» Как первый, так и второй исследователи подкрепляют свои выводы некими выдержками из архивных записей полкового и дивизионного уровней, из которых путём нехитрых математических калькуляций выявляются те самые «правильные» цифры. Контекст приводимых ими документов, впрочем, остаётся неясен.
Есть ещё одна принципиальная плоскость, в которой наши германские оппоненты пытаются принизить значение Курской битвы и победы в ней советских Вооружённых Сил. Так, немецкий историк Роман Тёппель утверждает: «Курская битва была одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, но ни в коем случае не решающим. Ведь самое позднее уже в 1942 году, после провала операции «Барбаросса» и двух неудачных германских наступательных операций на Восточном фронте, а также с вступлением в войну США, после сражения у атолла Мидуэй, в результате которого инициатива на тихоокеанском театре военных действий перешла к американцам, стало ясно: эту войну Германии не выиграть».
В этом заявлении мы усматриваем как минимум два ключевых противоречия. Первое: господин Тёппель почему-то считает возможным уравнивать масштаб и стратегические последствия Курской битвы, в которой принимали участие миллионы солдат и десятки тысяч артиллерийских орудий и единиц боевой техники разных типов, с тактическим морским сражением, не идущим ни в какое сравнение даже с материальной точки зрения. И второе: несколько курьёзным выглядит тот факт, что это самое заявление г-н Тёппель делает на страницах собственной книги, названной им… «Курск 1943: величайшее сражение Второй мировой войны»! Возникает ощущение того, что уважаемый исследователь запутался в лабиринте собственной компиляции реальных и выдуманных исторических фактов. Впрочем, это именно та цена, которую регулярно приходится платить нашим западным оппонентам, когда они подчиняют историческую науку интересам пропаганды.
Итак, ключевая идея, навязываемая современному неискушённому любителю истории в странах ЕС, сводится в интерпретации господ Уля и Фризера к следующему: «В битве под Прохоровкой советское командование допустило множество ошибок, из-за того, что их «торопил Сталин». 29-й танковый корпус, отправленный в атаку без достаточных разведданных, встретили спрятанные в укрытии немецкие танки. Соединение Красной Армии было практически полностью уничтожено».
Ну что ж, проведём исторический анализ эпизода, выбранного нашими оппонентами. 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова, на острие которой как раз наступал 29-й танковый корпус генерал-майора И.Ф. Кириченко, предстояло наносить встречный контрудар в узком коридоре между р. Псёл и железной дорогой. Участок наступления был частично перегорожен непроходимым оврагом. Огибая его, атакующим танковым колоннам пришлось выстроиться в затылок друг другу, нанося удары в несколько волн. Обычно танки наступали на подготовленные противником участки обороны широким фронтом. На один залп противотанкового орудия в ответ незамедлительно следовало от 3 до 5 выстрелов танковых орудий сразу нескольких машин. Атака же небольшой группой танков на узком участке не давала танковым соединениям 29-го корпуса подобного преимущества. Тем не менее советский удар под Прохоровкой, направленный навстречу наступавшему 2-му танковому корпусу СС, было решено провести.
Это было сильнейшее танковое соединение, которым Германия на тот момент располагала на Восточном фронте. Кроме того, немецкие войска, как отмечалось выше, имели крайне выгодную дислокацию для успешной обороны занимаемого ими участка фронта. В конечном итоге львиная доля потерь 29-го корпуса была нанесена ему не столько в ходе встречного танкового сражения на ровном участке местности, сколько противотанковой артиллерией противника, атаковавшей советские танки ещё только на выходе их на оперативный простор. Об этом свидетельствуют документы наших воинских частей.
Далее. В большинстве современных публикаций, выходящих в ФРГ, наблюдается тенденция занижения численного состава танков и САУ 2-го танкового корпуса СС, наступавшего на Прохоровку. А между тем, по данным NARA (Национального управления архивов и документации США), на вечер 11 июля 1943 года в корпусе имелось 236 исправных танков. Плюс штурмовых САУ StuG III и противотанковых САУ Marder III и Marder II — 101 шт. Кроме того, в боевых действиях в составе корпуса в боях участвовали самоходные гаубицы Wespe, Hummel и Grille — 73 шт. Итого получается как минимум 410 единиц бронетехники.
Упомянутые выше историки Уль и Фризер исключают из своих расчётов 3-й корпус со стороны Германии, однако включают всю 5-ю гвардейскую танковую армию с советской стороны. Но как советская, так и современная историография рассматривает границы Прохоровского танкового сражения 12 июля 1943 года на участке фронта до 35 км и в радиусе 20 км от Прохоровки. На этом участке фронта вёлся встречный танковый бой частями 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии против двух немецких танковых корпусов, стремившихся овладеть станцией. С юго-запада наступление вёл 2-й танковый корпус СС, а с юга — 3-й танковый корпус армейской группы «Кемпф». Состав 3-го танкового корпуса противника, по разным оценкам историков, насчитывал от 120 до 150 танков и САУ. Отражение наступления этого корпуса является составной частью Прохоровского танкового сражения. Таким образом, нашим частям 12 июля противостояло не менее 570 немецких танков и САУ (примерно 400 танков и 170 САУ).
Результатом Прохоровского танкового сражения стал срыв плана немецкого командования по разгрому резервов Воронежского фронта. Прорвать третий оборонительный рубеж советских войск на южном фасе дуги они также не смогли. Захватить Прохоровку немцам не удалось ни 12 июля, ни в последующие дни. 17 июля начался отвод частей противника, а к 23 июля под натиском советских войск они заняли исходные позиции, с которых пошло наступление в начале Курской битвы. По данным немецкого историка Й. Энгельмана, на 13 июля во 2-м корпусе СС в строю оставались 131 танк и штурмовое орудие из 422, в 3-м танковом корпусе на 15 июля насчитывалось 69 танков и штурмовых орудий.
По данным председателя Российского военно-исторического общества М. Мягкова, из 800 танков 12 июля советские войска потеряли 500, что составляет порядка 60% изначальной их численности. Немцы же потеряли 300 танков из 400, что составляет 2/3, или 75%. Как мы видим, материальные потери советских войск в ходе сражения оказались действительно выше, чем у противника. Но, во-первых, это объясняется приведёнными выше неблагоприятными факторами при наступлении, во-вторых, даже отдалённо не соответствует цифрам, приведённым немецкими историками Улем и Фризером.
Что же касается утверждений г-на Тёппеля, низводящего Курскую битву до уровня статистического эпизода Второй мировой войны, то мы бы рекомендовали ему обратиться к мемуарам своих же соотечественников, представлявших в годы войны как военное, так и политическое руководство Германии. Приведём лишь самые наглядные из них.
Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, командовавший войсками группы армий «Юг», наступавших на южном фасе Курской дуги, в своей книге «Утерянные победы» давал следующую оценку: «Весна 1943 года на Восточном фронте прошла под знаком подготовки к операции «Цитадель». Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на востоке. С её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом войны на Восточном фронте».
Генерал-майор танковых войск Фридрих фон Меллентин, начальник штаба 48-го танкового корпуса, в книге «Танковые сражения 1939—1945 гг.» отмечает: «Операция «Цитадель» закончилась полным провалом... После провала этого наступления, потребовавшего от немецких войск высшего напряжения, стратегическая инициатива перешла к русским».
Генерал-полковник танковых войск Хайнц Гудериан в своём бестселлере «Воспоминания солдата» приводит, пожалуй, наиболее фундаментальные выводы: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
Альберт Шпеер (рейхсминистр вооружения и военного производства) на Нюрнбергском процессе сообщил: «Наступление началось 5 июля, но, несмотря на широкое применение новейшей боевой техники, нам так и не удалось срезать Курский выступ и взять в кольцо советские войска. Излишняя самоуверенность в очередной раз подвела Гитлера, и после двух недель ожесточённых боёв он был вынужден признать тщетность своих надежд. Неудачный исход битвы под Курском означал, что отныне Советский Союз завладел стратегической инициативой даже в благоприятное для нас время года».
Наконец, Пауль Карель, обер-штурмбаннфюрер СС, в годы войны занимавший должность пресс-атташе министра иностранных дел Риббентропа, в своей книге «Выжженная земля» делает исчерпывающий исторический вывод: «Последнее великое наступление немцев в России закончилось; оно было проиграно. Самое ужасное, что стратегические резервы, создававшиеся много месяцев тяжким и самоотверженным трудом, в частности мобильные дивизии, сгорали в жаркой топке Курска, не добившись назначенной цели. Наступательная мощь немцев была сломлена необратимо.
С этого времени формирование стратегических резервов стало невозможным. Точно так же, как Ватерлоо в 1815-м решило судьбу Наполеона, положив конец его правлению и изменив лицо Европы, так и победа русских под Курском явилась поворотным пунктом всей войны и через два года привела к смерти Гитлера, поражению Германии и полностью изменила мировой порядок. С этой точки зрения операция «Цитадель» явилась решающим сражением Второй мировой войны. Официальная советская военная история совершенно справедливо называет его «битвой мирового исторического значения».
Напоследок хочется пожелать германским любителям бумажного реваншизма: прежде чем оспаривать нашу историю, для начала выучите свою собственную! Удачи, господа!
- 597 просмотров
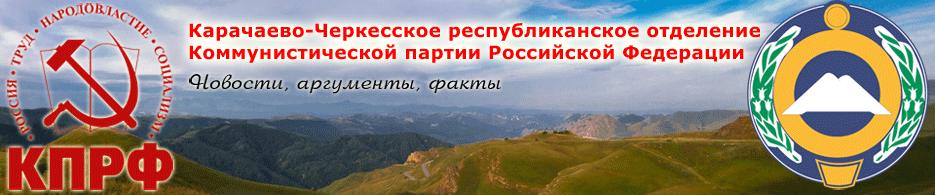

Добавить комментарий